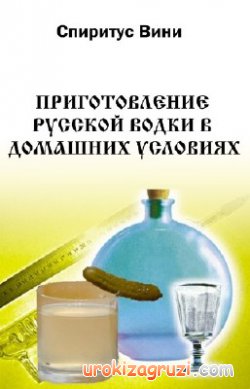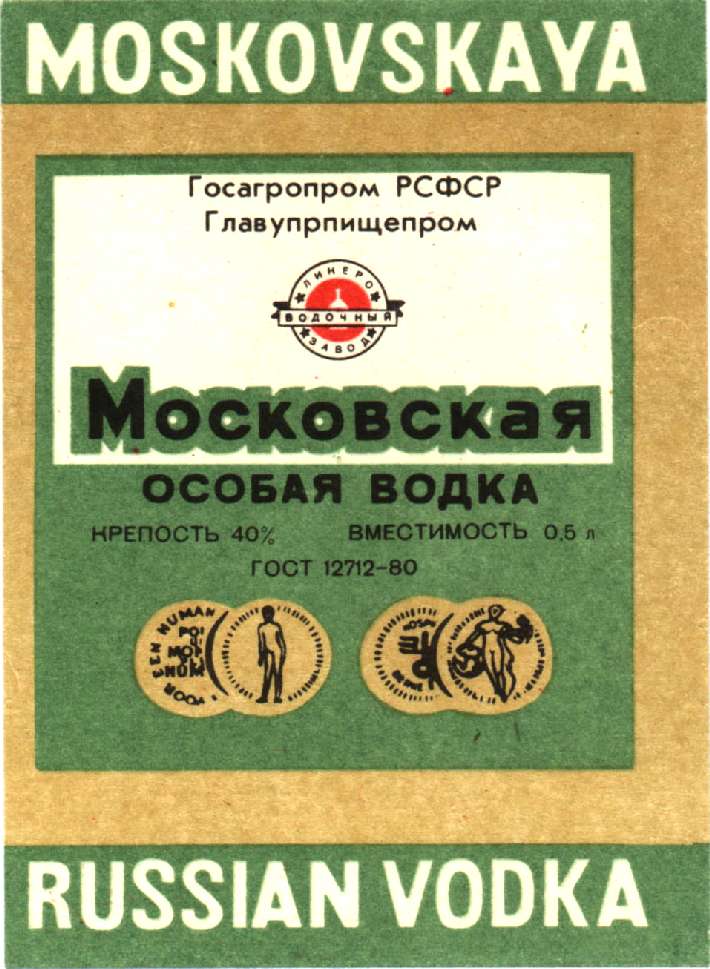Представляем вам прекрасного лётчика, толкового командира, талантливого поэта.
Представляем вам прекрасного лётчика, толкового командира, талантливого поэта.
Его поэзия наполнена любовью к профессии военного лётчика, искромётным юмором, да и политические симпатии прослеживаются довольно определённо.
Александр Николаевич ПРАВДИВЕЦ родился 3 января 1944 г. в городе Константиновка Донецкой области. С 1950 г. проживал в городе Прилуки Черниговской области. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков в 1965 г. и Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина в l973 г.
До 1995 года проходил службу в строевых частях и ВУЗах ВВС на должностях старшего лётчика, командира звена, заместителя командира-штурмана аэ, командира аэ, начальника штаба полка, командира учебного авиационного полка Черниговского ВВАУЛ, начальника службы безопасности полётов 17 ВА.
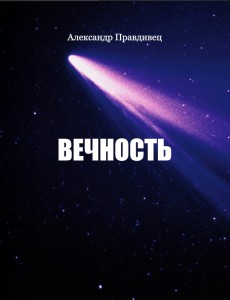 Летал на самолётах Як-18a, УТИ МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21, L-39 «Альбатрос». Военный летчик 1-го класса, полковник. Общий налёт составляет 3.500 часов. Участник событий в Чехословакии и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, награждён двумя орденами и многими медалями.
Летал на самолётах Як-18a, УТИ МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21, L-39 «Альбатрос». Военный летчик 1-го класса, полковник. Общий налёт составляет 3.500 часов. Участник событий в Чехословакии и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, награждён двумя орденами и многими медалями.
С 1995 г. работает в авиакомпании Международные авиалинии Украины на должности старшего диспетчера, проживает в Киеве. И продолжает писать стихи.
На этой страничке предлагаем Вам сборник стихов Александра Правдивца — «Вечность». Для перехода к чтению достаточно нажать на картинку справа.
Желаю автору крепкого летного здоровья и дальнейших творческих успехов!